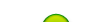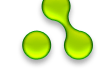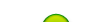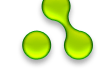Мама война
Зачем рождаться на свет, если для родителей ты всего лишь объект современного искусства
В ночь с 19 на 20 января на потайной квартире в городе Санкт-Петербурге в семье активистов арт-группы «Война» Олега Воротникова (Вор) и Натальи Сокол (Коза) родилась девочка по имени Мама. Полное имя — Мама Ненаглядная. Единственным журналистом, которого радикальные художники пустили в эту ночь к себе в квартиру, стала корреспондент «РР». В прошлом году мы публиковали довольно жесткое интервью с «Войной», поэтому Коза и Вор точно знали: ничего хорошего мы о них и в этот раз не напишем.
1 февраля 2012, №04 (233)
размер текста: aaa
Мама спит. На плите кипит кастрюля кислых щей. Кошки свернулись клубочком на лавках. На столе чашки с недопитым чаем. На веревках сушится белье. В доме тихо.
- Будет классно, если они ее арестуют, - говорит Воротников, почесываясь и глядя в ноутбук. – Но, скорее всего, зассут. В любом случае мы их сделали, они клоуны.
В коридоре за кухней – тазик, в котором только что отмокала плацента. Теперь она вместе с пуповиной – в морозилке. Утром Воротников предлагал кусочек Лёне Ебнутому, но тот не захотел. Теперь он хочет съесть ее вместе со мной. Но я тоже отказываюсь.
- Ладно, ее все равно семь дней надо выдерживать, - вздыхает он.
Ночью жена Воротникова Коза (Наталья Сокол. – «РР») родила дочку. В обед, прямо сейчас в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга проходит заседание по ее делу. Решается вопрос об аресте. Воротников уже заочно арестован, то есть на свободе – условно. Осталось только его найти. И посадить. Встретив меня на остановке, он первым делом спросил:
- Телефон отключила?
- Да, - я показала выключенный телефон.
- Ты аккумулятор не вынула! – возмутился он.
Я сразу вынула аккумулятор, но всю дорогу до дома он пилил меня за непрофессионализм, скрипя по снегу сильно драными кроссовками, и говоря, что от журналистов «РР» ничего другого ожидать и не приходится.
Во всем доме атмосфера расслабленности, словно дом натужился и выдохнул. Она складывается то ли из кошачьего мурчания, тихих кислых плевков щей из-под крышки и зудения самого Воротникова, то ли от знания, что здесь только что родился ребенок. А, может, оттого, что ушла повитуха – шумная, «толстая православная женщина».
- Режем пуповину, и я ухожу, - сказала она. – На меня давит ваша энергетика.
Воротников подошел к ней и обнял. Она назвала Воротникова ангелом. Но это было еще до объятий.
- Папа – ангел, - сказала она Козе. – Его надо благодарить за подаренную жизнь.
Сейчас ангел Воротников сидит в трусах за столом, чешет сальную голову, называет себя великим русским художником, роется в Интернете и рассказывает об истерике, которую ему пришлось наблюдать, – повитуха перед уходом час грузила его историей о том, как она поправилась на двадцать пять килограммов после смерти матери. И о том, что каждый щелчок фотоаппарата отнимает три минуты жизни, поэтому ребенка фотографировать нельзя, но Воротников все равно снимал роды на видео. Потом ангел встал и обнял повитуху. Та ужаснулась.
Повитуху нашли с шестой попытки. До этого попадались «не мягкие варианты», требовавшие начинать посещать их занятия за несколько лет до зачатия. А эта всего лишь поставила в ванной иконы, попросила Козу открыть крышечку в голове и пропустить через себя золотой и пурпурный столбы, а через матку лотос. «Папа, тужься, - говорила она из ванной. - Папа, какай!»
- Довольно вульгарные теории, - отзывается Воротников. – Главное – этому не противиться.
У меня сразу закралась мысль – повитуха ничего не знает о существовании арт-группы «Война», тем более о том, что ее активисты не пользуются деньгами. Кажется, она все еще надеется, что ей заплатят.
Перед тем, как перерезать пуповину, Воротников положил ребенка себе на грудь.
- Это – не православные замуты, - объяснил он. – Первые двое суток ребенка надо держать на коже, сменяя друг друга. Так он поймет, как надо себя в жизни вести.
Перерезая пуповину, Воротников сказал: «Довольно твердая вещь. И непонятно, почему не больно».
- А тебя кто держал на коже? – спрашиваю его.
- Меня было поздно класть, я сам начал себя воспитывать в четырнадцать лет – перешел на ночной образ жизни. Понял, если сам за себя не возьмусь, то буду таким же, как мои родители… Хотя в целом они мне нравились. В том городе, где я жил, мало что можно было себе позволить. А я начал очень элегантно одеваться.
- На какие шиши?
- Ну… подворовывал.
- И это воспринимал как развитие? – без насмешки спрашиваю я.
- Мы жили в таком длинном пятиэтажном доме с двадцатью подъездами. Туда селили людей из бараков, и у них сохранился барачный уклад – жили подъездом как коммунальной квартирой. И там, начиная с первого класса, занимались мелкой уголовщиной. У нас за домом была кондитерская фабрика, после школы в нее обязательно нужно было залезть и украсть либо бочку шоколада…
- Бочку?!
- Да, она была вот такая, - Воротников отмеряет перед собой не больше метра. – Но самым сложным было украсть щербет – такую херню с орехами. Он жестко охранялся. Но если совсем не везло тебе, ты должен был украсть хотя бы рулон фантиков. Я последним из своих приятелей встал на этот путь, другие угоняли мопеды.
- А чувства вины у тебя не возникало?
- Нет, меня моя жизнь не устраивала, и я должен был из нее выбраться наиболее быстрым способом.
Я прислушиваюсь, стараясь уловить из соседней комнаты дыхание Мамы. Интересно, что она сделает через четырнадцать лет, когда ей захочется вырваться из окружения своих родителей «наиболее быстрым способом». Но пока Олегу и в голову не приходит, что она может этого захотеть.
- Я учился в лучшем заведении области, но довольно быстро и там стал самым лучшим. Играючи…
- Чем же? – спрашиваю с насмешкой.
- Я хорошо писал стихи, хорошо рисовал, хорошо играл в волейбол. Да, высокоинтеллектуальная поэзия мне нравилась, уровня Мандельштама. Я не признавал за поэтов каких-нибудь Блоков и Есениных. Не мог – физиологическое отторжение. Я до многого в своем городе сам дошел. Сначала мы изобрели дадаизм – направление в искусстве начала двадцатого века. Марсель Душан придумал «реди-мейд». Это когда человек приносит что-то найденное, готовое, ну, вот такую банку, - он берет большую пластмассовую банку с яблочными огрызками со стола. – И говорит – вот это искусство. Это самым радикальным образом изменило представления об искусстве, задало самый главный вопрос, который, по-моему, до сих пор не полностью съеден – «Что такое искусство?», «Где искусство еще искусство, а где оно – уже не искусство?» Самый частый комментарий на акции «Войны»: «А вот если они в следующий раз насрут под дверью и воткнут бумажку, это будет искусство или не искусство?» Самый банальный быдло-комментарий.
- Так будет ли это искусством? – уточняю я.
- Дадаисты ответили – искусство в галерее. Один и тот же объект может быть не искусством вне галереи и объектом искусства в галерее. Главное – пространство, space, оно обладает сакральными функциями. Дадаисты устраивали всякие хулиганские выходки, а один из них сделал самый лучший перфоманс за всю историю этого жанра – собрал всех своих друзей дадаистов, таких самых матерых, которых нельзя было ничем удивить, и сказал: «Я прощаюсь с вами, и навсегда от вас уплываю». Он уплыл в лодке и погиб вроде бы. Но по моей версии он вышел за соседним мысом и прожил другую жизнь.
- Почему вам дали «Инновацию»?
- Струсили…
Кажется, у него на все есть своя теория, и в каждой из них он Олег Воротников – великий русский художник.
- Струсили перед мировым сообществом, - продолжает он. – Очень редко когда произведение русского искусства становится известным за пределами русской тусовки. До этого только одно имело успех – туалет Ильи Кабакова. Так же и с хуем получилось. Если бы не дали, им было бы тяжело общаться с заграницей.
- Но в результате им было тяжело объяснить у себя в стране – за что они вам премию дали.
- Лохам каким-то объяснить. Кто им платит деньги? Ерофееву обычно платят тридцать тысяч евро, и явно ему платит не какой-то там засранец русский, а приличные люди, и перед ними он не должен лохануться и перестать быть профессионалом.
- В чем интерес этих иностранных фондов?
- Они любят искусство, и это – недорого.
- Да, иностранцам нравится смеяться над нашими национальными ценностями.
- Им – посрать. У них совсем другая жизнь, мало связанная с нами. Мы им – мало интересны, - не без грусти говорит Воротников. – Я это не сразу понял, но однажды встретился с журналисткой из Associated France Press и начал выебываться, как сейчас. А ты вот так встань и вот так, а если не сделаешь, то не дам интервью. Она очень устала и сказала мне: «Я две недели убеждала своего редактора взять с вами интервью. Вы, русские, никому не нужны, напечатать что-то о вас – это обосраться». И я понял – да. Мы для них скучны, глупы и ленивы.
К пробуждению Мамы, я еще раз усваиваю, что Воротников – великий русский художник, а меня упомянут один раз в энциклопедии, и то, в лучшем случае, в связи с тем, что я брала у него интервью.
Простыня шапочкой закрывает голову Мамы. Пока у нее нет пеленок, но активистка Пизда Патрикеевна обещала принести. Мама сложила перед собой морщинистые ручки. Глазки-щелки словно закрыты на защелки, и, кажется, никогда не откроются. Коза лежит рядом.
- Задача художника – ставить себя в такие условия, - глухо произносит за моей спиной Воротников. – Ну, можно же было всего этого избежать. Ты готовишься к акции и говоришь себе – «Блин, ну все, там нас всех повяжут. Абсолютно точно повяжут. Потому что нет другого варианта. Мы уже запалились, когда готовились». Думаешь, а может не надо? Может, откажемся?»
Мама шевелится. Выбрасывает ручки из простыни. Это ее первые разговоры о «Войне».
- Думаешь, подождем год, - тихо продолжает Воротников, глядя на Маму. – Потом они забудут, что мы туда ходили. А потом – «Нет! Как можно отказаться?!» Идешь туда, и выходят на тебя менты. Зачем я сюда пошел?! И даешь заднюю скорость – джжж. Хармс называл это «зажечь беду вокруг себя». Все нормально вокруг тебя. Все нормально?! Значит, ты что-то делаешь не так.
Мама хнычет. Сколько уже было рождено до нее и сколько еще родится, но именно она – один из немногих младенцев, ставших объектом искусства, просто потому, что родилась в пределах space. Ее, как банку, принесли в галерею, перерезав довольно твердую связь со старым миром. Это не ее выбор. Просто она – «реди-мейд».
- Каспер не хочет называть ее Мамой, - говорит Коза. – Он говорит, что мама – это я.
- Может, мы должны были у Каспера спросить, как ее назвать? – говорит Воротников. – А то мы дали имя сами, поступили эгоистично. Каспер, как будем ее звать?
Каспер, которому два года и девять месяцев, ломает коробку, построенную из конструктора.
- Я ломаю гараж, - говорит он.
- Каспер, как ее зовут? – спрашивает Коза.
- Я ломаю гараж.
- Каспер Ненаглядный – самый юный активист всех времени и народов, - говорит Воротников.
- Я не хочу быть куратором.
- Вот взяли и родили, - говорит Коза с сомнением в голосе. – Никак не могу привыкнуть, что она отдельно от меня, - поправляет простыню на голове Мамы. – Теперь я знаю, как отключать мозг, рожая. Я сейчас понимаю, что было не так больно, как с Каспером, но боль все равно была невыносимой в некоторые моменты. Главное – себя не жалеть. Я теперь понимаю сам процесс – как он идет, что означает схватка, почему ребенок не движется – мешает плодный пузырь. Потом он вдруг прорывается и в сотню раз увеличивается боль. И ты чувствуешь, что ребенок продвигается. Каспер делал шаг вперед и два – назад. Она – нет. Совсем не надо тужиться, ребенок сам хочет родиться и движется.
- «Активистка арт-группы «Война» не пришла в суд, потому что находилась в роддоме», - читает с экрана ноутбука Воротников. – Агентство «Интерфакс» – это такая желтая хуйня.
- А потом я почувствовала, как она продвигается вниз… - произносит Коза. И я окидываю взглядом комнату – разобранный диван, застеленный дешевыми ситцевыми простынями, на котором Коза лежит с новорожденной дочкой, проволока, перетянутая через комнату, на них сушатся детские вещи. Есть во всем этом что-то такое, что отталкивает меня от этого space. И я понимаю, что ни один из нас, оказавшихся сейчас на одном пространстве, исключая Маму, ни при каких условиях не смог бы стать объектом искусства, даже если бы нас, предварительно воткнув в нас бумажку, триста раз назвали искусством. Мы – не «реди-мейд». Каждый из нас имеет свой опыт. У Козы своя пластиковая банка, в ней – только что пережитый опыт молодой матери. У Воротникова своя, и в ней – его домашние заготовки об акциях, об искусстве и своем месте в нем, он спешит вывалить их на меня, хотя видит, что слушаю его без интереса. А моя банка сегодня наполнена лишь на четверть – моим негативом по отношению к Олегу, Козе и их образу жизни. Я никогда не прятала эту банку за спиной, и, пожалуй, поэтому стала единственным журналистом, кого Воротников позвал присутствовать при родах. Но я на них опоздала и теперь не знаю, чем наполнить свой репортаж. Из нас четверых, пожалуй, только Мама могла бы стать объектом искусства – ее банка пока пуста. Но выражение ее сморщенного лица говорит о том, что она даже с закрытыми глазами видит нас насквозь. И я задаю себе вопрос – есть ли жизнь до родов?
- И потом начался самый кошмар, - говорит Коза. – Это когда рождается головка. И тут главное – оставаться спокойной, а хочется кричать от боли. Я кричала чуть-чуть, но когда поняла, что уже все – она сейчас родится, я родила ее в полной тишине. И только в этот момент у меня отключился мозг.
- Вы не заплатите повитухе? – спрашиваю я.
- Ах, да, она уже начинала говорить про энергетику – что нужно возвращать, - говорит Коза.
- Но ее православные расклады не позволяют сразу сказать – это стоит столько-то и столько-то.
- То есть она по-прежнему думает, что вы ей заплатите?
- Наивная дама… - отзывается Воротников.
- Мне Пизда сказала, только не вздумай расплачиваться с ней едой, - дополняет Коза. – А я хотела ей еду предложить. Едой же расплачиваться – это нормально и в наших силах.
Не уточняю, где они возьмут еду. Из предыдущего общения уже уяснила – украдут в супермаркете.
- А сколько стоят ее услуги?
- От пятидесяти тысяч она сказала у них стоит, - говорит Коза.
- От пятидесяти! Ё моё! – восклицает Воротников.
- Значит, вы пригласили ее, зная, что обманываете?
- Как обманываем? – переспрашивает Воротников. – Мы дарим новую жизнь.
- Мы никогда не обсуждали с ней вопрос денег. Никто ей ничего не обещал, - говорит Коза.
- Но это подразумевалось, - возражаю я.
- Да, подразумевалось, - отвечает Воротников. – Но она совершила хороший поступок, и он ей зачтется.
- Ей может зачесться только тот поступок, который она совершила по доброй воле, - говорю я. – Вы думаете, она пришла бы, знай, что вы ей не заплатите?
- Пришла бы, - говорит Коза.
- Конечно, она бы не пришла, - лениво тянет Воротников. – Но, понимаешь, мы должны человека ставить в хорошее положение, - сидя на стуле, он бьет себя по лбу церковной свечкой. – Одна из задач арт-группы «Война» – ставить людей в хорошее положение.
- Я уже начала разговор с ней о том, что деньгами пользоваться плохо. И проведу с ней еще несколько лекций, - говорит Коза, и я понимаю, что она, в отличие от своего мужа, - идеалистка. Верит в свои прямолинейные теории и, осуществляя их, идет напролом. В ее мире живут плохие люди и хорошие – последние всегда находятся в хорошем положении, первых в него никогда не поставишь, поэтому с ними надо бороться, например, обливая мочой и сжигая автозаки. В мире Воротникова – люди, в которых все намешано, как в «ярмарке тщеславия». Он-то знает, что многие сознательно избегают «хороших положений», в которые их может поставить великий русский художник. И ставя в это положение их насильно, он хитрит. Впрочем, и само положение в конечном результате напоминает другую, не очень удобную позу.
Все уходят на кухню есть кислые щи без мяса. Я остаюсь с Мамой одна. Сажусь на диван и продеваю палец в ее ручку. Она шумно дышит, как детеныш тюленя, брошенный на льду. Прикладываю три пальца к ее родничку – мозг бьется. Она родилась в Крещение. Повитуха уже крестила ее святой водой, назвав Марией. С бронзовой синевой на щеках она похожа на статуэтку, много веков пролежавшую под землей. Ее лицо первого дня жизни кажется старым. Сейчас ее родители на кухне переписываются с журналистами и читают комментарии под новостями о ее рождении. Мама морщится и стонет, заставляя меня постоянно задавать себе один и тот же вопрос – есть ли жизнь до родов.
В комнату возвращается Воротников и снова открывает свою «банку».
- Теперь она – самый юный активист арт-группы «Война». Дело в том, что современное искусство основано на скорости. Смотри, как Каспер быстро передал свое почетное звание самого юного активиста и политзека Маме, - говорит, намекая на то, что беременную Козу неоднократно задерживали на улице и ночью отвозили в отделение милиции. Последний раз Воротникову тогда удалось уехать на велосипеде. А беременная Коза осталась с Каспером и, пока ее сажали в машину, отбивалась, выкрикивая прохожим номер телефона адвоката группы.
- Нормальный отец должен заботиться о своей семье, - говорю я, когда он плюхается рядом со мной и Мамой на диван. – А ты… лежишь тут в трусах и в ус не дуешь.
- А что я должен делать? – серьезно спрашивает Воротников.
- У Мамы нет одежки, - говорю я, и это звучит, как – «пойди, укради».
- Сейчас Пизда привезет столько одежки, что ты не будешь знать, что с ней делать.
- Ты держал Каспера в подвале… - припоминаю ему им же рассказанную историю о том, что до самых родов они жили в сыром тесном подвале, в котором «ложились спать здоровыми, а вставали больными».
- Да, Каспер там заболел, его просто рвало, у него обезвоживание началось. Здесь он счастлив, здесь он может бегать. Я и сам понял, как важно, когда в доме можно сделать несколько шагов… Просто сам факт того, что великий русский художник живет в таком пиздеце… - последние слова Воротников произносит с грустью, и я вижу, что на дне банки – серьезные сомнения.
- Коза пришла в детскую инфекционную больницу, - продолжает он, - ее там отказались класть, потому что беременна и может сама заразиться. Но сказали – у нас есть отдельный платный бокс. Стали разводить на бабки… А, знаешь, чем хорошо воровать? Ты очень искренне начинаешь наслаждаться рекламой. «Майонез с перепелиными яйцами». Если ты платишь, то думаешь: «Ну, да, конечно, сука, с перепелиными… Откуда у вас перепелиные за шестьдесят рублей?» Или: «Эти микрогранулы отстирают в два раза больше». А ты говоришь себе - ни хуя не отстирают, только стоят в два раза больше. И в тебе накапливается много негатива, потому что процесс покупки – это процесс приобретения счастья. Но счастья никогда не происходит при покупке, и это создает психоз. А когда ты не платишь, то слушаешь рекламу с наслаждением. «Там больше орехов». Блядь, я пойду и возьму, там действительно больше орехов! Мне же все равно надо идти воровать. А мне еще сообщают, что надо воровать. Да-а-а, - тянет Олег мечтательно. – И это все натуральное, я поп-ро-бу-ю с перепелиными яйцами. Я – идеальный благодарный потребитель. И Коза говорит – «Четыре тысячи рублей за платный бокс в сутки? Да, конечно!» - «Вам там будет удобно!» - «Да! Нам там будет удобно!» Мать… Мать пришла… Какие там деньги? – грустно спрашивает Воротников. – Коза пролежала там трое суток, потом просто ушла не заплатив… В результате слаженный операции, задействовавшей двоих активистов «Войны». Пожила б ты с наше… - заключает он.
- Не собираюсь я жить с ваше. Я свою жизнь по-другому построила, чтобы не жить с ваше.
- Жизнь построил я, - высокомерно отзывается Воротников. – А ты… просто так живешь… Был такой поэт – Рильке. Столп поэзии двадцатого века. Он рос в бюргерской среде, там ему ничего не светило. А самое ценное в жизни – это, может быть, расстаться с начертанной тебе судьбой, и не проиграть. Можно расстаться и стать, конечно, бомжом или топ-менеджером «Лукойла». А можно отказаться от своей судьбы и победить. Это мало кому удается.
- У детей должен быть дом, - говорю я, не желая спорить с Воротниковым, – мы уже давно друг другу все сказали. Во всяком случае, моя банка – прозрачна.
- Они должны все воспринимать, как свой дом. Это такая иудейская вещь, ты знаешь? Жиды. «Под звездным небом бедуины, закрыв глаза и на коне, слагают вольные былины о смутно пережитом дне, - читает он картаво и нараспев. Мама перестает хныкать. – Немного нужно для наитий: кто потерял в песке колчан, кто выменял коня – событий рассеивается туман. И, если подлинно поется и полной грудью, наконец, все исчезает – остается пространство, звезды и певец».
Прочтя стих, он в последний раз ударяет себя свечей по лбу, а я пока не могу разглядеть – о чем сожаление он прячет на дне своей банки. Положив свечу на стол, Воротников заявляет, что я – вобла и выгляжу на десять лет старше своего возраста.
- А ты некрасивый, с грязной головой, в трусах и никакой не художник, - отвечаю я, беря Маму на руки.
- Целая куча фанатов и поклонников нас любят, - лениво отбрехивается он.
- Я тебя не люблю.
- А мне это неважно, - говорит он, и вдруг произносит то, что я не ожидала услышать, но, видимо, появление новой жизни как-то действует на него, заставляя говорить новое, еще не сказанное.
- Мне не нравятся мои акции, - говорит он, опустив глаза.
- Чем они тебе не нравятся? – я же напротив пристально смотрю на него.
- Понимаешь, я знаю, какими они должны были бы быть. А ты не знаешь…
- Но я знаю, что художник на практике никогда не может достичь того идеала, который рисуется в его голове.
- Нет, у нас многие акции выполнялись ровно так, как были задуманы.
- Тогда я не понимаю, чем они тебе не нравятся.
- Понимаешь… они мне безразличны…
- А что имеет значение?
- Ну… что мир потом совсем другой… после этого. Акция – просто инструмент, какой-то поскребок…
- Что-то я не заметила вокруг тебя никаких изменений.
- Они есть. Во-первых, ты сам становишься другим человеком. А, во-вторых, это мы сделали то, что сейчас происходит на улицах.
- Ты о протестной активности? Что-то никто ее не связывает с вашим именем.
- Только «Война» это сделала. Больше никто. Мы дали им язык. До этого все было не проговорено. У… Бу… У-бу… - Олег изображает глухонемого. – Глухонемой, когда объясняет, тоже понятно, но речи нет. А они нас сейчас, как обезьяны копируют. Не понимают, зачем они это делают, но делают.
- Что ты чувствовал, когда рождалась Мама?
- Счастье. Ребенок – источник счастья. Допустим, ты выпьешь три бутылки водки и гарантировано захмелеешь. Ты подойдешь к ребенку и гарантировано получишь счастье.
- Но хмель проходит…
- Да, а потом снова подойдешь. Это как спортсмены в парилке первыми начинают потеть. И тут тоже – ты готов играть с листа, то есть без разминки. Для того, чтобы почувствовать счастье, мне не нужно, чтобы ребенок был красиво одет или дарить ему игрушку. Мне не нужно костылей… Когда голова показывается, она очень сморщена, и, кажется, что это такие горы – как рисуют на макетах. Когда появилась ее голова, настал момент, и я понял, что она не уйдет больше назад, а сейчас появится все тело.
Меня ошеломляет мысль. Я не могу в нее поверить, но моя догадка принимает отчетливые черты в банке Воротникова. Мысль кажется мне невероятной.
- Такое чувство, что ты жалеешь о том, что сам не можешь родить, - небрежно бросаю я, проговаривая ее.
- Да, я чувствую свою незаметность и ненужность, - серьезно, но негромко отвечает он. – Мужчина – неинтересное создание. И ты чувствуешь эту свою… ненужность.
- Ты же только что себя расхваливал – великого русского художника.
- Мне интересно, чем занимается твой косметолог, если ты так плохо выглядишь? За что он берет с тебя деньги?
Я не отвечаю, и он продолжает:
- Иностранные журналисты нам говорят: «Вот у вас столько выставок, вас назначили куратором». Но это все проходит мимо меня, а я живу в подвале. Выставки – это каждый раз большое разочарование, просто получение орденов, которыми невозможно ничего сказать. Выставки нужны только для того, чтобы устроить следующую выставку в более престижном месте.
- Неужели, Мама – для тебя тоже акция? – спрашиваю я, щупая одной рукой ее мягкие косточки. Сейчас еще непонятно, какой она будет – похожей на Олега? На Козу? Или, вообще, на Марию?
Воротников выпрямляется.
- Это единственный спорный момент в моей стройной теории, - тихо отвечает он.
Утром, надев драные кроссовки, он выходил встречать Леню Ебнутого. Леня опоздал на первую электричку, и на вторую он тоже опоздал. Мороз ударил, как обычно в Крещение. Мама уже спала, завернутая в дешевую простыню. Воротников уже обнял повитуху, та содрогнулась, поняв – ей не заплатят. Воротников гулял долго под редкими деревьями, под колючим снегом. За ним бегали дворовые собаки. «Я четко отделяю акцию от не акции», - говорил он себе. «Есть четкий критерий» - повторял. Да, критерий связан с амбициями мастера, желанием совершенства. Но почему одни действия ты называешь акциями, а другие – нет? С другой стороны, говорил себе Воротников, и на этом месте отмечал, что вот это «с другой стороны» - тоже очень четко и важно… Так вот, с другой стороны, сам метод отделения акции от не акции – он устаревший, потому что отрицает очень важную стратегию: что сама жизнь – тоже акция. И если ты признаешь, что живешь ежедневным акционизмом и постоянно делаешь бесконечный ряд мелкий акций, то тем самым ты себя принизишь, как мастера. «Так признаешь ли ты?» - спрашивал себя Воротников, не замечая, как снег попадает в большие дырки кроссовок. «Да, мы сделали акцию, облив ментов мочой… Но это – не акция, это жизнь. Не могу ведь я каждый поход в мушник (супермаркет – «РР») называть акцией… Но! – сказал себе Воротников, остановившись у дороги и повернув обратно, - с другой стороны, это так и есть. Сдвиг, который совершается благодаря бытовым акциям, он гораздо важнее, чем сдвиг, совершенный показательными выступлениями. Да, эти выступления демонстрируют, что ты – охуенный чувак. Да, мусора не могут тебя поймать. Но ежедневный акционизм – облить ментов мочой, сжечь автозак – это гораздо больший вклад. И потому Мама – тоже акция…. Но нет, - одернул себя Воротников, - ты не можешь так говорить, и тут же повторил. - Мама – более важная акция, потому что она раскрывает пространство для маневра. И ты можешь харкать в ментов с расстояния метра, тебя никто не закроет…»
С этой не четко оформившейся мыслью он, замерзнув, вернулся домой.
- И если я не пойман, - заявил мне Воротников, - то это не потому, что спецслужбы мной не интересуются, а потому что они не умеют работать, а я не делаю ошибок. Как только сделаю, меня поймают. Меня часто спрашивают: «Мусора могут быть людьми?» Нет, не могут. Они – система безличностных характеристик. Мусор – не субъект, а мутационный фрагмент системы.
Попробовав невкусных щей, ухожу на кухню готовить и обдумывать сказанное Воротниковым. Сам он маячит у меня за спиной, топчется, дважды наступает мне на ногу и зудит о том, что я на роды опоздала, и вот отдали эксклюзив этой «русской репке», а они даже приехать вовремя не смогли. И для него теперь загадка – из какого пальца я буду высасывать свой репортаж. А главное – почему я так плохо выгляжу.
Леня Ебнутый приносит сетку с несколькими картофелинами.
- Мало, - говорю я. – Ты не мог больше своровать?
Леня ищет и находит «хозяйскую картошку». В отличие от ворованной, та – мелкая и немытая.
Пока чищу картошку, Воротников с упоением рассказывает, как Козу повязали менты, а потом отпустили, узнав, что она – беременна. Его рассказ изобилует подробностями о том, что сказали рядовые менты следователям из следственного комитета, о том, как те задрожали, перепугавшись беременности Козы, что подумали бессильные «эшники» и что, в конце концов, сказал им всем врач, приехавший в отделение по вызову, чтобы отнять Каспера у Козы. До меня не сразу доходит, что Олега там не было.
- Откуда ты знаешь, тебя ж там не было?! – собираю из раковины картофельные очистки – их выбрасывать нельзя, на них остается много картошки, которую потом пожарит и съест Леня Ебнутый. А если выкинуть, он все равно их вынет из ведра.
- Неважно! – пресекает меня Воротников и продолжает. - Они протокола задержания не пишут, адвоката не пускают. И этим нарушают закон, потому что в федеральном розыске человек находится не для того, чтобы его задержали и отпустили, а чтобы задержали и провели с ним следственные действия, вышли в суд и арестовали. Ничего из этого они сделать с Козой не смогли. А другого смысла объявлять в федеральный, а затем в международный розыск человека, который точно находится на территории РФ, – нет. Только для того, чтобы арестовать автоматически. Но в лице Козы сама жизнь выиграла у Следственного Комитета.
- А тебе бы очень хотелось, чтобы ее арестовали, да? – спрашиваю его. – Чтобы пресса подняла шум, и о вас снова заговорили? И ты хочешь мне сказать, что ребенка вы запланировали специально для этого?
- Конечно, - тянет Воротников. – Чтобы в такие ситуации попадать и прикалываться. Очень легко быть преступником, имея живот, а потом ребенка. Заочный арест, и сразу вся пресса: «Да как это можно?!» Судье отменяют решение. А для судьи это не очень хорошо, когда ее решение меняют, это сказывается на карьере – ты приняла глупое решение, его отменили, ты – дура… Но ты можешь мне, наконец, объяснить, как можно в твоем возрасте выглядеть на десять лет старше?
- Зачем ты мне это говоришь?
- Чтобы тебе в репортаже было за что отыгрываться.
- Вы не планировали ребенка.
«Глас в Раме слышен, плачь и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
- Что они тут пишут? – Коза читает с другого ноутбука. – Откуда они знают, на что я надеюсь?
- Они пишут, что ты – плохая мать, - говорю я.
- Я не верю, что я – плохая мать, - отвечает она, сидя на диване. Мама сосет ее грудь. Длинные волосы Козы падают до пояса. – Я очень хорошая. Очень. И пока мы вместе, у нас все будет хорошо.
- А ты знаешь, какой должна быть хорошая мать?
- Он должна любить.
- Думаешь, этого достаточно?
- Любить, доверять и относиться, как к равным.
- «Добавим, они назвали девочку Мамой», - читает Воротников.
- Вас упрекают в том, что вы берете Каспера на свои акции.
- А что надо, уходя приковать его к батарее на вписке? Мы не расстаемся. Я не могу сказать своему ребенку – ты тут сиди, а мы пойдем мочить ментов.
- Может, не надо ходить мочить ментов?
- Но если это нужно делать? – говорит Коза, таким же тоном можно было произнести – «ближним своим нужно помогать». – Это человеческий долг. Я говорю Касперу – «Я иду мочить ментов. Ты со мной?» Он отвечает – «Да, я с тобой».
- Он маленький, и ничего не понимает.
- Как не понимает? Дети понимают все. У него есть выбор.
- Тебя ж впустили, - злорадно говорит он.
Я хочу сказать, что общество нельзя оценить по нескольким десятками комментариев в Интернете, но молчу, ведь эти комментарии для них, живущих то в подвале, то в домах у знакомых знакомых на птичьих правах, и лишь делающих вид, что они – счастливы, - та самая пуповина, которая связывает их с внешним миром, которому они пытаются не дать, а навязать свой инструмент для протеста.
- Их задача – нас запугать, - говорит Коза, имея в виду ментов. – А мы не боимся. Просто так сложилось, что мы не боимся. В беременном состоянии я могу даже больше. У беременных выше потенциал и смелости больше. Нельзя мыслить шаблонами – нас бьют, поэтому я должна бояться. Я беременна, значит, я сижу дома. Каспер ждал сестренку, чтобы вместе с ней стрелять в ментов.
Имя дочке придумал Олег. «Может, нам надо было назвать ее Мариной?» - с издевкой поинтересовался он, когда я спросила, почему Мама Ненаглядная?
- Марина вряд ли вызвала бы скандал в прессе, - отвечаю я.
- Каспер тоже Ненаглядный. Это – новый род людей Ненаглядных.
- Коза, тебе не хочется иметь свой дом?
- На небесах… Но иногда хочется, хотя бы без клопов и крыс. У нас будет семь детей – пять своих и двое приемных.
- Цыган, - дополняет Олег.
- Потому что уже умеют воровать?
- Потому что вольные.
- Мне кажется, скоро я научусь рожать сама, - говорит Коза. – А сегодня мне нужна была профессиональная помощь. Роды – непредсказуемый процесс. А на некоторых рассчитывать нельзя, - он бросает взгляд на Олега. – Он не помнит, как перевязывать пуповину. При этом он говорит – не нужно акушерок, рожай сама. Все готов на меня повесить. Тем более, он даже не почитал, как перевязывать пупок, а то, что я ему прислала по родам, он проигнорировал, - в ее голосе звучит обида. - Когда я изучала технику дыхания, он дышал, как надо и ржал над этим.
- Зачем ты это делал? – строго спрашиваю Воротникова.
- Потому что я умею дышать, - как ни в чем не бывало, отвечает он.
Коза показывает мне видео, на котором она рожает в ванне. Ее длинные темные волосы мокнут в воде, разведенной кровью. На бортике ванны – икона. На полках у стены – банки с эмалью.
- Папа, тужься, - говорит с экрана повитуха. – Папа, помогай…
- Если она станет политзеком, мы сразу переведем ей всю сумму, - говорит Коза, глядя в экран.
- Я люблю малышей, - говорит повитуха. – Люблю. Вот она какая!
Мама бухается в воду между ног Козы.
- Время?! – строго говорит повитуха.
- Двадцать три тридцать семь, - отвечает кто-то из-за двери.
- Смогла, - говорит Коза.
Воротников снимает футболку, плюхается на диван и кладет Маму себе на кожу.
- Ты можешь поверить, что в животе находится то же самое? – поворачивается он ко мне. – Целый живой человек?
Коза сидит рядом, и у меня появляется чувство, что сейчас великий русский художник действительно чувствует свою ненужность. Что он сейчас готов сесть в лодку и сказав: «Я уплываю от вас навсегда», уйти куда-то за горизонт. Может быть, туда, откуда только что появилась Мама. Но я-то знаю, что Воротников повернет к берегу за соседним мысом, и, глазом не моргнув, продолжит прежнюю жизнь. Другим ему не стать – оттого и печален.
- Скоро наука даст и нам возможность рожать, - говорит он. – А такие, как ты, будут чисто декоративным приложением.
- Я все равно буду лучше тебя – у меня есть матка.
Мне отчего-то не хочется, чтобы Мама прямо сейчас взяла из его кожи что-то, и, наверное, поэтому я сама весь день не спускаю ее с рук, пусть у нее, по крайней мере, будет выбор – расставаться или нет с предначертанной судьбой, когда беда зажжется вокруг нее.
Мама впервые открывает глаза и обводит ими комнату. На ее сморщенном лице – страдание, какое бывает только в первый день жизни. Словно младенец еще помнит, откуда он пришел, и уже знает, куда он попал. Не уверена, что в искусстве есть направление, в котором творение рождает творца, но сейчас Мама Ненаглядная кажется самой взрослой в этой комнате – родившей Олега, Козу, всех анархистов, революционеров, бездомных, непризнанных гениев и художников, умерших в нищете. Во всяком случае, она – единственный проект «Войны», появление на свет которого я приветствую.
- У нее так бьется сердце. Она такая горячая, - говорит Воротников и смотрит на нее как не на проект.
Мама морщится. Мама плачет.
OpedID
Ольга
7 февраля 2012
После статьи о Лене Катиной в прошлом номере еще сомневалась, но теперь присоединяюсь к комментарию: пожалуйста, хватит Марины Ахмедовой! Хотя бы не в каждом номере! Пощадите, дорогая редакция! Этот пафосный стиль, эта вечная отстраненность, эта обязательная дистанция, эти частые менторство и слегка пренебрежительное превосходство, эти одинаковые из статьи в статью интонации... Я признаю право автора на свой стиль, но читать этот стиль становится все сложнее. "Война", честно говоря, бесит. Да, я мещанка, обывательница, я считаю, что современное искусство в лучшем случае посредственно, в худшем - диагностично, но мне на всю эту публику глубоко и полно. Меня бесит их отношение к детям. Если вы родители - вы обязаны позаботиться о своих детях, потому что дети о себе позаботиться не могут. И на фоне нежелания построить человеческие отношения с детьми вся эта революционная риторика выглядит такой чушью...
Василий Шуньятов
5 февраля 2012
Вы, наверное, знаете Луиса Бюнюэля... который в 20ые прошлого века тусил с дадаистами и прочими... После войны он сказал: "Теперь мы все понимаем, что с их стремлением разрушать да-да были предвестниками фашизма". Мне почему-то это фраза запомнилась... по-крайней мере меня она заставила задуматься еще раз о всей этой философии. И был еще один интересный рассказ одного никому неизвестного французского писателя про девочку, которая в те же 20-ые потерялась на улицах Парижа. В это время там собрались все: Борхес, Бретон, Бюнюэел, Арагон, Дюшан и т.д. И на этих улицах в подвале жила эта брошенная девочка, она пыталась найти себе пристанище, что-бы кто-то помог, обратил на нее внимания. Но все эти взрослые и умные дяди, ходившие с ней в одну булочную, и, придумывавшие манифесты, почему-то ее не замечали. ...Они жили в другом мире - высоких идей, или лучше сказать, анти-идей. Не помню, что стало с родителями этой девочки, вроде их забрали в полицию, но суть не в этом... а, наверное, в том, что кроме "акций" есть еще и реальный мир... и в конце-концов, кого Вы спасаете, кошку или картину?
турчинская ольга
4 февраля 2012
ничего не скажу про стиль статьи и прочее - автор написал так, как хотел, это его право, его видение. Меня смущает другое - я не могу понять, как отношусь к героям материала. Мне они не симпатичны. Мне они неприятны. Мне их не жалко. Потому что я догадываюсь откуда все эти "странности". Дело в другом. Я очень хочу относится нейтрально - позволять им быть такими, какие они есть, даже если мне хочется крикнуть им в лицо, что они дураки. И я не могу быть нейтральной. Особенно из-за ребенка.
На месте автора, я бы просто послала этих борцов... с чем-то-там-против-всего-борцов. Удивительно, что ей хватило терпения...