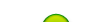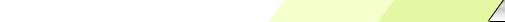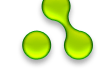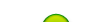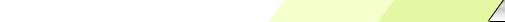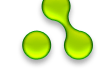Употребляя термин
«Богиня-Мать»,
подразумевают универсальное воплощение
женского
начала, богиню-прародительницу,
не имеющую равновеликого себе
супруга
Она – «созидательница вселенной
со всем,
то в ней
происходит».
«ведущим было женское начало,
вездесущая, всемогущая, проявляющая себя во всём
богиня-мать, а всё мужское было второстепенным, подчиненным,
роявляющимся в лице ее
спутника-супруга». Одна из главных ее
черт – амбивалентность: она предстает воплощением и жизни, и
смерти, она может выступать и как хозяйка небес,
и, что особенно для нас важно, как владычица
подземного мира.
В мировой мифологии преисподняя – это не только мир
умерших,
но и средоточие глубинной мудрости (как видим, даже
фразеология современного языка сохраняет эту связь мудрости с
нижним миром), которая регулярно отождествляется с женским началом,
то есть является составляющей образа
Богини-Матери.

В индуизме, Махалакшми
(Mahalakshmi) – это верховная богиня-мать,
и как многие полагают, она – есть
корень всего творения.
Популярная же индуистская богиня
Лакшми – это богиня богатства, благополучия и процветания – одна из
манифестаций Махалакшми.
Но сегодня и Лакшми и Махалакшми
для большинства людей
– одно и то же.
Они обращаются к обоим для решения
своих материальных нужд.

Махалакшми как высшая богиня-мать подобна Дурге, и эта форма
упоминается в Тантрических текстах и популярна в
западной
Индии, особенно в Махараштре.
Махалакшми – попытка человеческого ума найти корень всего творения
и определить бесформенную сущность, которое отвечает за
это.
что она – Пракрити, майя и
шакти. Все одушевленное и
неодушевленное возникает и исчезает в ней.

Но в вайшнавской традиции (верующих в бога Вишну как верховное
божество) у Махалакшми есть супруг – бог Вишну, обращаясь к
которому можно достигнуть освобождения (Moksha) от бесконечного
цикла рождения и смерти.
В этой форме, она – щедрый аспект
природы и олицетворяет справедливость и сострадание, но связана с
Вишну.
Вишну здесь – символ отца, и Лакшми – символ матери.
Прощение за грехи (нарушения
Дхармы) дает Вишну, а богиня
Лакшми помогает каждому верующему
в неё, своим ходатайством перед Вишну. Что-то типа отношения Отца и
Сына в христианстве.
Именно к Вишну легче приблизиться
через богиню Лакшми,
как к Богу-Отцу через
Иисуса.

В тибетском тантризме - как и в
шиваизме, каждое мужское божество имеет свою божественную
супругу-шакти (в буддийской терминологии – «праджня»), с которой
сливается в вечных объятиях.
Тантрическая традиция утверждает, что боги
становятся могучими
и мудрыми только благодаря соединению со своими
шакти.
Шакти (женская энергия), праджня (запредельная
мудрость) представляют собой сплав женственности и
мудрости.
«Что касается
блаженства и пустоты, — говорил в одной из своих лекций
Далай-лама XIV, — то здесь подразумевается неразрывное
единство мудрости, постигающей пустоту, и глубокого переживания
блаженства...
Значение использования блаженства для реализации
постижения пустоты столь велико, что многие медитативные божества
тантр высшей йоги изображаются в соитии.
Это блаженство очень отличается от того, что
испытывается
в обычном половом акте.

Мудрость, символизируемая женским началом
(«праджня»),
считается имманентно существующей, разлитой в
мире.
Мужское начало представляет собою метод
(«упайя»),
посредством которого постигается
мудрость.
Рассмотрим понятие
праджни детально.
Этим словом
обозначается женская ипостась божества,
его женская энергия, иконографически
передаваемая
как супруга; также праджня – это запредельная
мудрость,
постигаемая лишь интуитивно, в состоянии
озарения.
Если мы проанализируем
это не с религиоведческой, а с мифологической точки зрения, то
придем к выводу, что отождествление понятий «супруга» и «мудрость»
означает, что женщине мудрость присуща изначально, в то время как
мужчина должен мудрость постичь, и постижение это идет через
женщину,
что на иконографическом уровне передается как
«яб-юм» (дословно «отец-мать»: бог и его праджня сливаются в
супружеских объятиях),
а на уровне текста –
как многочисленные сюжеты о великих святых, получавших мудрость от
дакини, причем в некоторых случаях речь
идет не только о духовной передаче, но и о плотском
соединении.

Воплощением мудрости как
таковой предстает Праджняпарамита – высшая из степеней духовного совершенства
(парамит), символизирующая интуитивное
познание, озарение.
Одновременно Праджняпарамита
является и философским понятием, и названием корпуса священных
текстов, и богиней, иконография которой не только зрительно
передает философскую концепцию,
но и
содержит ряд черт, позволяющих видеть в Праждняпарамите элементы
мифологемы Богини-Матери (в атрибутику богини входят и лотос, и меч
– женский и мужской символы).

Тантрическим возвышением
женщины как воплощения
мудрости объясняется
женственный
(и иногда женовидный) облик мужских
божеств.
Так, стоящего Авалокитешвару регулярно пишут с
большими, округлыми бедрами. Здесь же следует отметить еще
одну черту Богини-Матери, очень важную для понимания мировоззрения
тибетского буддизма, – двуединство эротизма и
целомудрия.

Поскольку Богиня-Мать не имеет супруга, но является
прародительницей всего сущего, то это и создает названную
амбивалентную черту.
В мировой мифологии она может реализоваться
по-разному: от образа Иштар, одаривающей своей любовью множество
героев и губящей их, до образа Артемиды, которая, будучи изначально
прародительницей и губительницей диких зверей, в классической
мифологии становится охотницей и девственницей; от сибирских богинь
очага, именуемых «мать-огонь», до римской девственной Весты с ее
весталками.

В тибетском буддизме эта
амбивалентная черта воплощается,
во-первых, в самой сути
тибетского тантризма – в символической,
а не плотской трактовке
полового акта, в оксюмороне
«тантра для
монахов».
Во-вторых, это опять же будет связано с дакинями,
иконографические изображения которых подчас весьма эротичны
(большинство дакинь полностью обнажены, не считая множества
украшений), притом что эротичный аспект легенд о дакини – скорее
исключение, чем правило.
Образ дакинь находит типологическую параллель в
скандинавских мифах о валькириях – воинственных девах, помогавших
героям в бою, а также обучавших их мудрости (таковы Сигурд и
Сигрдрива, Хельги и Свава–Сигрун и др.).

В мифологическом мышлении
мужское начало
противопоставляется женскому
как нечет и чет.
Двоичность – универсальный способ
передачи
женского начала на
знаковом уровне.

В тибетской иконографии это ярче всего видно на
примере двойного изображения Тары – на большинстве картин богиня
одновременно предстает в Белой и Зеленой ипостасях (заметим, что
для всех
других божеств появление нескольких их ипостасей на
одной картине – явление несопоставимо более
редкое).
В образе Зеленой Тары двоичность выражается и в
том, что богиня держит в руках два, а не один стебель
лотоса.
О том, что богиня Тара как таковая имеет черты
Богини-Матери,
писал еще Ю.Н. Рерих.

Один из геометрических символов
Богини-Матери – треугольник, вершина
которого смотрит вниз.
Такова
форма уже упомянутого
озера, посреди которого
растет лотосовый трон. Вода – стихия,
повсеместно отождествляемая с женским началом, а также с
мудростью... Всё это присутствует в образе
Богини-Матери.

Категория записи: Религия и непознанное